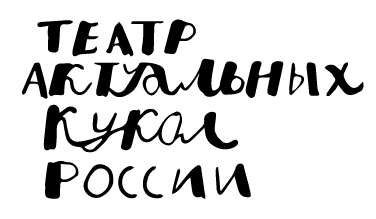
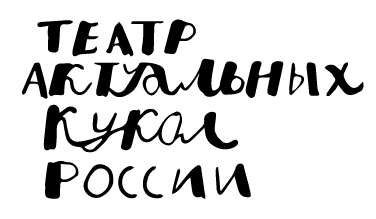

Вы знаете театр маленькой Верочки? Маленький театр маленькой Верочки?
Если не знаете, так я вам расскажу.
Ей всего четыре года; театру ж года два. Ей-богу!
Вот условный театр[1]! Ах, какой условный театр!
И странно! – Верочка ведь не прочла еще ни одной книжки о новом театре[2]! – Такая самостоятельная! Ужасна самостоятельная!
Ей, кажется, вообще нет никакого дела до новых теорий сценического искусства! словно они и не касаются ее вовсе, словно она их все уже давным-давно изучила, изучила и отбросила! – Такой у нее хороший театр.
Я как-то вздумал раз поговорить с ней поподробнее насчет кое-каких тонкостей сценического оборудования, костюмировки там и прочего… Боже мой, как она смеялась! Она заставляла меня по нескольку раз повторять технические выражения и каждый раз в ответ смеялась так громко и так заразительно, что я, наконец, и сам не выдержал.
Так смеются только боги, знающие правду, истинную правду! (Или я ничего не смыслю в мифологии.)
Мне страшно нравится театр моей маленькой Верочки.
Во-первых, это совсем настоящий театр. Не «совсем как настоящий», а именно «совсем настоящий» театр. Здесь и речи быть не может о том, что то-то «не так», или «неправдоподобно», или «непохоже». Здесь всегда все «так», «правдоподобно» и не только «похоже», но почти «вот это самое и есть». Творческая убедительность здесь достигает такого абсолюта, что дальше некуда идти и нечего желать… Правда, здесь творец и зритель – одно лицо; но в том-то и заключен здесь весь секрет театральной иллюзии.
Во-вторых, этот Верочкин театр, всецело подчиненный одной воле, замечателен тем, что, в силу этого обстоятельства, все в нем свершается над чертою одного сценического знаменателя, откуда полнейшая и безупречная цельность стиля.
В-третьих, этот театр, преисполненный отъявленнейшей жизненности сценических образов, совершенно не нуждается в каких бы то ни было искусственных двигателях. Это вам, господа, не театр марионеток! – Ниток не заметно, потому что их нет и в помине.
В-четвертых, в этом театре каждый раз идет новая пьеса. Здешний драматург неистощим в своей фантазии.
В-пятых, этот Верочкин театр не нуждается (слышите, господа: не нуждается!) в публике. Она даже мешает Верочке. (Вот как! – получите-с!)
В-шестых… Но эдак я никогда не кончу! Куда!.. – тут нужны трактаты, фолианты, десятки лет исследования, да и то не перечислишь всех (т.е. исчерпывающе всех) достоинств этого поистине волшебного театра! Волшебного, потому что здесь действительно все делается как по волшебству! И даже без волшебной палочки. (С палочкой-то всякий сможет! – эка важность! – дайте только палочку!)
Я много работал в театре; и как хозяин и как батрак – всячески. Книжек много написал о театре – еще больше прочел! Кажется, изучил театр!.. Но когда я выхожу из детской Верочки, выхожу как осененный чудесным, но не разгаданным, выхожу как зачарованный, в удивлении перед таинством действа, подлинность и совершенство которого для меня непостижимы, — кажется, что меня, со всеми моими театральными знаниями, надо немедленно же выбросить в помойную яму схоластических бредней.
Я уж не говорю о других сценических деятелях (вот так «деятели»!), которые и слыхать не слыхали про Верочкин театр, и знать не знают, что она, как маленький Боженька, из ничего делает все, что ей вздумается.
Посадит ее вдали от детской, от ее кукол, от ее игрушек, и вы увидите, что она не одна! увидите, как онам мудро, например, играет всеми пальчиками своей левой рученьки.
Ни Падеревский[3], ни Гофман[4], ни Сарасате[5], ни Кубелик[6] не являли столь изумительного применения фаланг своих левых кистей!
И это она сама выдумала – никто ее не научил.
Каждый паьчик зовется у нее человеческим именем: большой – это «Вова» (дядя Вова), указательный – «тетя Таня» (заметьте, сколько в этом наименовании указательного «тыкания»!), средний – «Федя» (верзила-гимназист, знакомый), безымянный – «мама» (обручальное кольцо), а маленький – «Петя» (ребеночек Верочки, т.е. «мамы», олицетворяемой безымянным пальчиком).
Эта милая компания разыгрывает у Верчоки самые уморительные истории. Например, встречаются «дядя Вова» с «мамой», они целуются и начинают разговаривать о том, какой гадкий и глупый «Федя»: хоть и большой, а все время из-за маминой спины обижает маленького «Петю»; «Петя» хочет спать (мизинец жмется к ладошке), а «Федя» туда же (средний палец жмется к ладошке и мизинцу) и давай тискать «Петю»; а ведь «Петя» маленький, и всякий его может обидеть, не только что «Федька-верзила». И вот «мама» с «дядей Вовой» придумывают, что им сделать. А в это время к ним в гости приходит «тетя Таня». Ну тут тары-бары, всякие разговоры, кто где был, что делал, какие детям игрушки купили, — «мама» возьми и пожалуйся на гадкого «Федю». Пришел «Федя»; а «тетя Таня» взяла его и побила. «Федя» плакал, а «мама» с «дядей Вовой» от себя прибавили – зачем он обижает маленького «Петю»! – «Петя» маленький, «Петя» спать хочет, а «Федя» глупости устраивает и т.д.
О, чудный драматург! о, режиссер, каких нет! о, девственная воля к театру, о, гений сценической находчивости! о, безмерная любовь к искусству представления! о, моя Верочка! о, мудрость младенцев[7]!..
Весь свой театральный восторг я кладу к твоим крошечным ножкам, моя крошечная Верочка!
Возьми в свои горячие ручки мое охладевшее к жизни сердце, согрей его, поиграй им, как только ты одна умеешь играть, научи его прыгать как мячик, кататься как серсо, кувыркаться как паяц и, наконец, разбиться так же весело и звонко, как носик твоей фарфоровой куколки, знаешь, той, что никогда не хотела сидеть смирно на месте и которую ты всегда бранила «дурочкой».
Моя милая Верочка, моя милая волшебница, моя всезнающая, всеумеющая, на глазах моих слезы, что я могу сказать о твоем искусстве театра? – я, жалкий невежда, грубый и неумный, так измучившийся, так измучившийся от бессилия найти настоящие слова о спасительном преображении?!
Когда я говорю о тебе, я говорю от любви только глупости.
О, накажи меня как самую большую и самую глупую куклу! – Поставь меня в угол твоей светленькой детской! Дай мне там тихонько-тихонько поплакать!..
Из книги: Евреинов Н. Демон театральности. М.; СПб.: Летний сад, 2002. С. 289–291.
[1] «Условный театр» — понятие, в начале ХХ в. характеризующее новый театр, противопоставляющийся театру психологическому, натуралистическому.
[2] «Новый театр» — собирательное понятие, распространяемое на любые театральные течения режиссёрского театра. (См., напр., издание «Театр. Книга о новом театре», выпущенное в 1908 г. со статьями А. Горнфельда, А. Бенуа, В. Мейерхольда, Ф. Сологуба, Г. Чулкова, С. Рафаловича, В. Брюсова, А. Белого.)
[3] Падеревский (Paderewski) Игнацы Ян (1860-1941) – один их крупнейших пианистов конца XIX – начала ХХ в., композитор, неоднократно гастролировал в России. С 1919 г. премьер-министр Польши.
[4] Гофман (Hoffman) Иосиф (1876-1957) – польский пианист, ученик А.Г. Рубинштейна, интерпретатор
Ф. Шопена, гастролировал в России с 1895 г. С 1899 жил в США.
[5] Сарасате-и-Наваскуэс (Sarasate y Navascuez) Пабло де (1844-1908) – крупнейших испанский скрипач-виртуоз, композитор, вел активную гастрольную деятельность (в России – с 1989 г.)
[6] Кубелик (Kubelik) Ян (1880-1940) – чехословацкий скрипач-виртуоз, композитор, интерпретатор Н. Пагинини. Гастролировал в России в 1901 г.
[7] Мудрость младенцев – идея, постоянно разрабатываемая Морисом Метерлинком как основополагающая в символизма и связанная с понятием «молчания» как главного «сокровища смиренных». Интерпретирована Метерлинком в произведениях 1890-х гг., в пьесах («Непрошенная», «Слепые», «Там, внутри») и трактатах. В его книге «Сокровище смиренных» Метерлинк пишет: «Ребенок, который молчит, в тысячу раз мудрее Марка Аврелия, который говорит» (Метерлинк М. Полн. собр. соч.: В 4 т. Т.2. Пг.: А.Ф. Маркс, 1915, С. 62).